ДЛИННЫЙ СОН
Поверьте мне: всё началось, когда она захотела пойти
к морю. Она спросила, где море, у продавца мороженного на улице и вдруг
поняла, как исказилось его лицо. Ей показалось, что она никогда не видела,
как искажаются лица - и обнаружила, что выглядит это кошмарно.
Она ещё удивлённо оглянулась, но увидела позади
только свой дом, в котором прожила всё своё детство и в котором, как она
знала, прошло и детство её родителей, которые когда-то жили на разных этажах,
а теперь - под самой крышей. Там, где одно окошко было с витражами. Там
они жили. А однажды папа пошёл купить яблок и упал на улице под непонятно
откуда взявшимся кирпичом. Это было ужасно. Прошло больше трёх лет - а
ей тогда вот-вот должно было исполниться восемнадцать. Она посмотрела на
крышу своего дома, покрытую зеленоватой от мха черепицей, утыканную красивыми
ажурными флюгерами вокруг высоких печных труб - и тут вспомнила, что никогда
ещё не видела, чтобы в их городу кто-то умирал, уходил из жизни просто
от старости или даже от какой-нибудь болезни. А разве должно быть так?
Она была очень удивлена, что у неё появились эти
мысли. мысли были вовсе не страшные - но они тянули куда-то, и Олла тут
же захотела бежать и бежать.
Да, кажется, её звали Олла. Она, наверное, сама
не знала, как и когда впервые услыхала это имя. Имя... Почему-то все имена
вокруг оставались призрачными, неуловимыми, как проносящиеся запахи. То
тёплые, то сладковатые, то немного едкие. Они не удерживались долго и вряд
ли сохраняли свой первоначальный смысл. Вот и дядя-мороженщик, которого
она помнит с самого раннего детства всегда в белой кепочке под широкой
зелёной листвой больших деревьев, скрывающих улицу - его тоже как-то зовут...
Грэм?
"Грэм..." - произнесла она, повернувшись, и вновь
увидела его искажённое лицо, ещё не забывшее вопрос о море. Впрочем, может,
и не Грэм... но с рыжими усами. Он в особенно жаркий день порой выбирал
самого маленького мальчишку с веснушками и дарил ему эскимо. Искажённость
его лица была совсем не такая, что случается, если нарочно строят рожи,
и даже не такая, какая была у окружающих, когда на плотника с соседней
улицы наехал незнакомый велосипедист и сломал ему позвоночник. Это было
уже давно, наверное, несколько месяцев, а то и года два назад - но у Оллы
при воспоминании об этом случае, происшедшем прямо на глазах, до сих пор
набегали слёзы.
Печальные чувства - но Грэм с его рыжими усами открыл
холодный ящик и протянул ей коробку пломбира. И море синело в его глазах.
А вечером случилась ужасная гроза. Олла с мамой
зашторили окно, и через узкую щель они смотрели, как серое в чернильных
пятнах небо прорезают ослепительные молнии. Потом хлынул ливень - и такого
ливня она ещё не видела в своей жизни. Реки воды струились сверху, омывали
стены домов и сминали листья, и мчались разъярённым потоком по улицам.
Большие листья, перед этим захваченные ветром, крутились теперь в потоках.
"Смотри, это просто море!" - воскликнула мама, и
Олла вздрогнула. Очень неуверенным движением она стала отодвигать штору
и вглядываться в этот бурлящий мир. Всё мерцало и переливалось в бесчисленных
зеркалах воды, вспыхивающих при каждом небесном электрическом разряде.
"Что это?!" - вдруг закричала Олла.
Сквозь потоки она увидела мокрую фигуру, вздрагивающую
и толкающую перед собой ящик на колёсиках - мороженщика. Белый халат его
превратился в нечто неопределённое, облепленное мокрой грязью и листьями.
Потерявшая форму белая фуражка обтягивала череп, и обычно добрые светло-синие
глаза под ней темнели мокрыми провалами. Когда Олла увидела его, мороженщик
поскользнулся и не удержал ящик, который тут же вкатился в стремнину, опрокинулся
- и дальше его понесла вода. Грэм кинулся следом, но тут обрушился новый
шквал ливня. Мороженщика сбило с ног, понесло, и он только успел уцепиться
за телеграфный столб у перекрёстка. Подтянувшись по столбу, Грэм смотрел
вслед уносимому ящику с мороженным, с лица его стекала вода, и тут...
Тут в телеграфный столб ударила молния. Олла с ужасным
криком отскочила от окна, упала на кровать и в рыданиях своих слилась со
стихией. А мама потеряла сознание.
Утром всё было чисто, светло и спокойно. Но Олла
уже не могла остановиться внутри себя. Сияние солнца казалось разреженным.
Странное состояние охватило её сущность, и мама с тревогой стала расспрашивать
дочь, в чём же дело.
Олла ни на что не могла решиться. Она не могла произнести
ни слова, она поникла, как подрубленное дерево, и только руки её непрестанно
двигались, шевеля тонкими голубоватыми жилками, но сказать ничего не могли.
И уже вечером, когда небо над деревьями заиграло розовым светом, а витражи
запустили мармеладные зайчики в дальние углы комнаты, Олла прошептала:
"Я хочу к морю."
Мама всё поняла и глубоко вздохнула. Она достала
из-за шкафа старый папин чемоданчик, с которым тот когда-то ездил в деревню,
и стала собирать необходимые вещи. Да, она знала, что ещё никто никогда
в из городе не видел моря, и только в детских книжках синяя бахрома красок
изображала неведомые волны, и корабли плыли большие с круглыми окошками.
Ещё её бабушка рассказывала, что есть поверье, будто желающий увидеть море
принесёт какое-то неведомое счастье всем живущим и даже умершим; и много-много
лет назад один парень с дальней улицы вдруг взял и ушёл искать это необычайное
явление, и потом его ещё долго поминали как святого.
Олла вышла из дому в полдень, и все словно что-то
почувствовали - люди тоже выходили из своих квартир и домов, и весь город,
казалось ей, вышел навстречу проводить её. Мама совсем не плакала, она
будто даже была рада - и так и запомнила Оллу в её розовом платьице и фиолетовой
кофточке со стареньким меленьким чемоданчиком, блистающим бронзовыми клёпками.
К вечеру Олла перестала оглядываться - город за спиной совсем исчез; и
лишь плотно сжимала в руке букетик терпких фиалок, которые ей подарил высокий
юноша с длинными волосами, встреченный у городского парка и молча пожелавший
счастливого пути, и она долго шагала ещё по дороге, пылящей, будто здесь
никогда и не было дождя, и наконец, устала и почти в темноте уже нашла
ночной приют среди стогов сена под незнакомый чудесный треск невидимых
кузнечиков.
Быстрые первые дни проходили в пути как перелистываемые
страницы книги, которую пышно заполняли луга и леса, перемежаемые деревнями
и небольшими посёлками, хуторами и старыми замками, большей частью очень
ветхими, где Оллу встречали и провожали разные люди, не то что бы очень
добрые, но и не злые, немо угощающие её и ютившие в своих домах, на непременный
вопрос которых она всегда отвечала, что идёт к морю, и видела на их лицах
проносящуюся грусть, а иногда и лёгкое искажение, и они так ничего больше
и не говорили, и только давали ей что- нибудь вкусное в дорогу и потом
долго смотрели вслед.
В стороне от себя слышала она разговоры о том, как
поспевают и уродились ли незнакомые ей по именам овощи и фрукты, как совершается
в соседней деревне древний обряд или на следующий день будет новый праздник,
на который приедут и из других мест. Если она не понимала какие-то слова,
они не интересовали её; всё равно перед глазами возникали красочные картины
- так же, как по голосу птицы она угадывала её многоцветную окраску или
по доносившимся из лесу запахам вид и повадки незнакомых животных. Но вот
уже много дней как деревни и даже отдельные хижины на пути кончились, и
Олла шла уже не по дороге, а ориентируясь по солнцу, которое за день делало
вертикальную дугу над головой; и ела она ягоды и испробованные птицами
плоды, и уже совсем не попадались знакомые деревья, и временами вместо
дождя над головой проносился сухой пыльный ветер.
Как-то переночевав на развилке большого дерева с
очень толстой корой, Олла спустилась с него и увидела около ствола большую
корзинку, в которой лежали тёплые домашние пирожки и пузатая зелёная бутылка
со сладкой водой. Она сразу поняла, что всё это для неё и не постеснялась
съесть угощение. Оставив корзину у дерева, она пошла дальше в направлении
взошедшего солнца и тут увидела пред собой маленького человечка с огромным
носом, в сиреневой курточке и жёлтых ботинках, который весело смотрел на
неё. Вокруг человечка лучился странный красноватый свет, делающий всё окружающее
словно затемнённым.
"Ты, девушка, - сказал он, ткнув в Оллу толстым
пальцем. - Куда идёшь?"
Она тут подумала: на каком странном языке говорит
этот карлик, но почему-то она понимает его. - "К морю," - произнесла она,
но не услышала того, что сказала. И добавила: "Меня зовут... Олла."
Последнее слово переливом утонуло в листве деревьев,
и Карлик нахмурился. Он долго оглядывал Оллу, ходил кругом её, косолапо
переставляя ноги, а потом проворчал:
"Ты сама не знаешь, зачем идёшь. Ну и иди. Вот и
посмотришь."
Потом он встал перед ней, протянул большие руки,
словно хотел обнять, и сказал: "Дай мне себя! Тогда освобожу."
Олла от неожиданности отступила назад.
"От чего?"
Карлик сразу поспешно заложил руки за спину, усмехнулся
весело, а потом развернулся и вперевалку пошёл вглубь леса. В руках его
Олла увидела большой деревянный ключ. Мимоходом Карлик обернулся и кинул
сторону:
"Ты не знаешь, с какой ты планеты."
И он скрылся за кустами.
Тогда Олла ощутила, что на неё наваливается некое
воспоминание.
С безграничным удивлением она посмотрела на себя.
Раньше ей не доводилось думать, что её человеческий вид есть что-то отдельное
и особенное, то, чего нет у других. Могла ли она потерять ЭТО? И могла
ли она быть другой? Карлик в сиреневой курточке намекнул, что её можно
в з я т ь - но что это могло значить? Да и чем бы, кем бы она тогда стала?
Поднимая глаза на тянущиеся к ней ветви деревьев,
зелёные тонкие плёночки листьев и далёкую голубую материю неба, Олла ощутила,
как новые и незнакомые мысли, расположенные позади глаз и, кажется, между
ушей её вдруг перепутываются с прежними знакомыми ощущениями и картинами
памяти. Она бы не смогла объяснить то, что получалось; просто ранее спящий
дух пробуждался и начинал выхватывать образы из окружающего и внутреннего,
и привычным неким движением оценивал их.
Олла топнула ножкой и продолжила свой путь в избранном
направлении. Совсем скоро лес расступился, и она увидела ровное чёрное
поле выжженной травы. Поле, уходящее вдаль, туда, где на горизонте угадывалась
гряда синевато-коричневых гор.
Поверхность земли с выжженой травой качалась, когда
Олла шла по ней. То, что казалось золой, чёрной влагой сбегало по башмакам
или между пальцами. Идти было легко и приятно, Оллу не покидало ощущение,
что земля сама вращается под ногами. Но до наступления вечера ей, конечно,
не удалось достичь гор; она положила чемоданчик на землю, присела на него,
уронила голову на колени и сразу заснула.
Уже стемнело, и засыпая, она чувствовала, как пепел
наливается фосфористым зелёным светом, почти голубым, всё более и более
сверкающим и делающимся похожим на небо. Да, Олла увидела себя сидящей
на лазорево-фосфорном небе, а чёрная чаща тьмы над ней оказалась проплывающей
далёкой поверхностью земли. Вот уже различала она поля и дороги, по которым
неслись крошечные автомобили, холмы и домики, окружённые садами; маленькие
люди ходили там. А потом увидела она и город, очень большой город многоэтажных
прямоугольных домов, между которыми тоже ходили люди и ездили разные машины,
разноцветные автобусы... Всё это казалось Олле очень знакомым; и она парила
над городом, испытывая невероятную сладость от самого полёта, и словно
что-то искала глазами - но нет, это должно быть не вовне, а внутри её -
это нужны были слова, слова о том, к а к всё это именуется и откуда она
про всё это знает?
Проснулась Олла от того, что при свете взошедшего
из-за гор солнца она упала на выжженую траву и ощутила вдруг огромную пустоту
во всём теле. Эта пустота эхом отозвалась под розовеющим небом, вдруг показавшимся
ей таким маленьким - в сравнении с тем, по которому она летала во сне.
В этой розовой пелене она увидела тёмную точку.
Точка вскоре выросла в крылатую фигуру с длинным змеевидным хвостом - через
некоторое время чёрные брызги взлетели под тяжело опустившейся невдалеке
тушей зеленовато-серебристого дракона. У него были большие и грустные карие
глаза, и мелкая чешуя шелушилась. Олла без страха смотрела на него.
"Ты, наверное, ищешь море?" - Дракон чуть картавил,
голос у него тоже был грустный, а язык непонятный, как и у Карлика - только
смысл проносился в голове у Оллы. Она молча кивнула.
"Если ты уже спала в этом поле, - не приближаясь,
продолжил Дракон, - то должна знать, с какой планеты попала сюда."
Оллу охватило безумное щемящее чувство. Конечно!
Только сейчас внутри прорвалось прохладной свежестью ЗНАНИЕ - того, что
этот спокойный мир вовсе не имеет отношения к ней, к её сущности - и ей
даже не дано умереть здесь. Она счастливо улыбнулась Дракону. Тот внимательно
ждал ответа.
"Да, я видела свою планету... Но я ещё не знаю её
имени, я не могу понять, что нужно, чтобы попасть туда."
И тут, глядя на грустного Дракона, Олла стала замечать,
что окружающая картина медленно меняется, постепенно перетекает в нечто
совсем иное. Мокрая чёрная зола под ногами зашевелилась и вспучилась крупными
острыми камнями, между которыми во множестве пробегали неизвестные, очень
неприятного вида насекомые и ползали зловещие змейки. Поодаль в мерцании
появились и обрели плотность уступы пирамидальных скал, на которых чистили
перья и озирались хищные птицы с длинными красными шеями и сверкающими
глазами. Дальше она увидела кучки людей в изорванной одежде, с ранами и
в грязи, которые, обивая до крови руки, раскалывали каменные глыбы. Было
очень жарко.
Дракон пристально смотрел на Оллу.
"Вот ты уже и у вершины, - сказал он. - Ты очень
хороший человек, раз сразу попала к вершине. Я всё объясню тебе сейчас."
В этот момент какой-то зверёк вроде ящерицы кинулся
сбоку на Серебристого Дракона и острыми зубами вцепился в его шкуру меж
осыпавшейся чешуи. Дракон только сморщился от боли - и когда брызнула кровь,
тварь вдруг дёрнулась и исчезла. Олла расширенными от ужаса глазами взирала
на происходящее, и новые и новые мысли рассыпающимися орехами освобождали
её память о какой-то иной, совсем другой жизни, не похожей ни на прежнее
спокойно-дремотное существование в городе, ни на этот сказочный ад.
"Эти горы, - повествовал Дракон, - расположены на
Полюсе Мира, в центре этой планеты. Планеты маленькой и безымянной, но
на которой находят пристанище все, кто живёт в этой Вселенной. Не знаю,
есть ли ещё такие миры, но в этом ты можешь встретить и людей, подобных
тебе, людей с четырьмя руками или с крыльями, и разных драконов - как я
- и гномов, и умных треногов-квагуд, птиц с человечьими головами, и херувимов,
и множество других разумных тварей - не знаю, кого здесь не может быть
из тех, кого способно придумать наше воображение. Все хоть немного разумные
попадают сюда. Но жизнь здесь течёт словно сон. Каждый здесь видит знакомое,
но не помнит о своих прошлых жизнях. Лишь в какой-то момент мы можем уловить
свою цель и происхождение - и тут каждый переносится на Полюс. Здесь уже
всё не так. И сказочность здесь иная, непривычная для самых сказочных из
нас.
Тут всё очень твёрдо и грубо, осязаемо, и подчиняется
простым и жёстким законам. Здесь находится Вершина. В основании Вершины
- огромный Ларец. Вся гора давит на его крышку, но каждый попавший сюда
должен всеми силами помочь приумножить Вершину. Ведь тогда гора сможет
продавить крышку Ларца, а иначе нам невозможно раскрыть его. Впрочем, есть
ещё в Ларце маленькая дверь, закрытая на замок. Ключа к замку здесь нет,
никто не знает, где этот Ключ. Говорят, что Старец мог бы раскрыть Ларец,
но не хочет. Он почти никогда ни с кем не говорит, а если и говорит, то
- найдите и откройте. И не остаётся никакого выхода, кроме как надстраивать
Вершину..."
"Но для чего это делается? Зачем нужно открыть Ларец?"
"Ты не увидела ещё? В Ларце спутаны нити наших жизней.
И когда каждый найдёт свою нить, он возвратится на свою планету и осознает
свободу и смысл существования. Только тогда могут закончиться эти миллиарды
лет плена."
Из грустного глаза Дракона капнула огромная зеленоватая
слеза, и змейка, на которую слеза упала, тоже заплакала, и Олла уловила
жалобные мысли, источаемые отовсюду.
"Ай, все мы... ай! Мешаем жить друг другу... смысл
разный и всё безобразно... все сочетания... боль, болезненно, ай... гадко,
противные все кругом... безобразно, уродство..."
Огляделась Олла и увидала, что все странные твари
хоть как-нибудь тащат - кто камешек, кто песчинку. Волокут на Вершину.
Вот и Дракон, поговорив с Оллой, ухватил обломок скалы и взлетел, гулко
рассекая воздух иссохшими крыльями. Даже хищные птицы брали камни в клюв
и в свои цепкие лапы - и взлетали. Люди в останках одежд, расколов глыбу,
брали обломки и с трудом их катили на склон. Множество странных существ
помогали им.
Сквозь стелящиеся облака тумана проглядывала Вершина.
Словно каменная гряда, ведущая в небо. Тысячи людей карабкались на неё
- другие уже опускались. Когда туман временами рассеивался, словно от движений
людей, было видно, что в основании Вершины расположены странные каменные
колонны-лестницы, между которыми виднелись проходы-пещеры, ведущие вглубь,
очевидно, к Ларцу. Мысли Оллы роились, и она не могла понять, что ей нужно
сделать, как помочь в общем деле - ведь как мало будет, если она станет
лишь таскать камни.
Но как же - море? Ведь она шла именно к нему.
Тут среди толп людей, всей шевелящейся массы, двигающей
камни, она увидела знакомую фигурку в белом халате, только грязном и порванном.
Фуражка мороженщика куда-то пропала.
"Грэм!" - побежала она и звала его, в этом слове
стараясь восстановить утерянный образ.
"Грэм, - подбежала она и вызвала удивление на посеревшем
лице. - Так ты живой?"
"Ты... неужели уже умерла? - хрипло ответил ей обычно
такой мелодичный голос, обладатель которого угощал детей лакомством. -
А... да, ты ведь искала море... - вспомнил он и улыбнулся. - Знаешь, я
видел здесь твоего отца."
Усталые, измождённые лица бесстрастно смотрели на
них, передыхая от тяжкой работы. Здесь, видно, подобные встречи не были
редкостью. И только упоминание море зажгло интерес в нескольких парах глаз.
Пока Олла говорила с мороженщиком, от соседней глыбы к ним подошла цыганка
и, осторожно раздвигая людей вокруг Оллы, приблизилась к ней. Цыганка была
ещё довольно молода, но здесь была, как видно, давно. Цветастое платье
её было тоже изорвано и в густой серой пыли, которая оседала уже и на фиолетовую
кофточку Оллы.
"Слушай, девушка, - заговорила цыганка, - я тоже
попала сюда не по случаю мнимой смерти, а направляясь к морю. Как и ты,
я с планеты Земля (Олла вздрогнула) и хотела бы сделать хоть что-то для
нашей свободы. Но пути только два: проломить крышку Ларца или найти от
него ключ..."
"Но почему нельзя уговорить Старца, чтобы он открыл
Ларец наших нитей?"
"Такая-то девочка, может, уговорила бы..." - с тусклым
смехом произнесла, вывалив камень изо рта, огромная жаба с длинными персидскими
глазами.
"Да-да, - продолжила цыганка. - Старец это может,
но не хочет он. Не верим мы, что он не знает, где Карлик с ключом..."
"Как - Карлик? - воскликнула Олла. - Я видела в
лесу перед пустыней Карлика, у которого был деревянный ключ..."
Все загалдели, сквозь шум восклицаний цыганка ничего
не могла сказать. Наконец, утихли.
"Быть может, это и тот ключ. Но замок на Ларце железный.
И действительно, кто приходит сюда по доброй воле, способен узреть хранителей
Ларца."
"Старец чужой здесь - и нити его нет в Ларце," -
прострекотал, сев Олле на плечо, жук с большими кроличьими ушами.
"Может, тот Карлик - лишь воплощение Старца," -
добавил ещё кто-то.
"Старец хитрит, - продолжала цыганка. - Я ведь шла
к морю - но он надо мной посмеялся, приказав удовлетворить все просьбы
Сонного Циклопа. Я вот я тут уже почти десять лет, а Циклоп спит и не думает
проснуться. Тебе нужно поговорить со Старцем, узнать, где ключ и какой
он."
Долго ходила Олла, беседуя и поражаясь, сколько
людей уместилось на этом стыке времён и пространств. Близилось вечернее
время - но бьющее сквозь дымку горячее светило не уходило, и все продолжали
работать. Лёгкую укоризну в отношении себя стала замечать Олла по мере
того, как одежда её и прежде сверкающие золотом волосы серели от пыли.
И она направилась ко входу в пещеру.
Здесь никого не было; лишь своды из камня дрожали,
сотрясаясь от стараний тех, кто возводил Вершину до неба. Зыбкий свет сочился
меж отдалёнными друг от друга колоннами. Дальше сумерки, мрак среди голого
камня. Вот и Ларец - огромный, как дом, из непонятного материала сундук,
тоже дрожащий, но выдерживающий непомерную массу на нём. Остановилась здесь
Олла и услыхала средь стонов скал чьи-то и уверенные шаги. В сумраке пещеры
замерцало.
Это шёл Старец. Он вышел из-за одной из колонн,
а уже за секунду до него появилось голубое свечение. Светились его седые,
ниспадающие на плечи волосы; казалось, немного светились и его зеленоватые
глаза, и жёлто-восковые руки с очень длинными гибкими пальцами, молодыми
и сильными при тонкости своей и необыкновенной чувствительности.
Старец молча приблизился к Олле и положил ей руку
на голову. Он был очень худ и высок, а рука его невесома. И сама Олла тут
же наполнилась лёгкостью. Старец печально смотрел на неё, потом вздохнул
и пошёл куда-то дальше.
"Постойте! - с удивлением громко прошептала Олла.
- Куда же вы? Ведь я ищу море..."
Старец повернулся и испытующе снова оглядел её.
"Море?" - переспросил он, но голоса его Олла так
и не услышала. Звуки этого голоса передать было вообще невозможно.
"Море? - Старец улыбнулся. - Я знаю. Но здесь нет
моря."
Олла поняла, что это какая-то странная шутка, и
почувствовала в себе нечто новое: она ведь ещё никогда не слышала и не
видела - не помнила - чтобы кто-нибудь шутил.
"Неужели? - прочитал Старец её мысли. - А в деревнях
на праздниках, а на карнавалах, или просто за чашечкой чая?"
Олла пожала плечами. Возможно... Только как бы открыть
эту дверцу?
"Зачем? - Старец двинул головой, подтверждая искренность
своего удивления. - Что изменится? Люди воскреснут? Заживут в согласии
жабы и змеи? Мир свернётся в гармонию? Нет, я не верю. А ты веришь? Ты
знаешь? Знаешь, кто я?"
Старец словно себя спрашивал.
"Кто?" - спросила после паузы Олла. Несколько слов
Старца влили в неё поток вдохновения; память стала будиться, бурлить и
вспыхивать, и картины - одна прекраснее другой - побежали пред мысленным
взором, открывая просторы Земли.
Старец подошёл ближе и присел у дверцы на камень,
которого Олла раньше не приметила.
"Это случилось... это нигде не случилось. Я жил
в прекрасном мире, мире великолепной гармонии, где все всегда были счастливы
и всему доставляли счастье, создавая сознанием своим самые невероятные
прекрасные вещи и события, и идеи, и миры, своими отражениями и новизной
умножающие красоту Вселенной. Это являлось естеством. Где это происходило
или произойдёт - объяснить невозможно, и только я могу здесь сказать: так
случилось.
Тот мир огромен и содержит в себе практически всё.
В нём всё хорошо дополняет друг друга, и даже дисгармония находит свои
прекрасные сочетания. Нет в нём несчастья, разрушения, разделения, противоборства.
Никому не приходит в голову создавать нечто такое. Там все живут очень
долго, но не бесконечно - когда ты понимаешь всё, на что стал способен,
то растворяешься в своих созданиях, перестаёшь существовать как форма.
И вот однажды подумалось мне: что было бы, если
б жизнь время от времени прерывалась, если бы мы забывали то, что уже создали
прежде, и начинали бы словно сначала. Если бы форма изливала содержимое
и начинала б наполняться снова. Может, появились бы какие-то новые способности?
До предела ли мы развиваемся? Ведь тогда бы каждый, умирая и очищаясь,
смог бы жить хоть прерывно, но зато бесконечно.
Что нужно для этого? Достаточно надорвать, надрезать
единство. Разделить кожицу - и соки плода. Гармония Природы распадётся,
а где-то даже станут происходить чудеса. Появится зло; но ведь оно не будет
уничтожать, поскольку можно возродиться вновь. Так мне казалось.
И из бесчисленного потока смыслов и значений я взял
только одно. Я ввёл это одно Слово, Знак - и мир родился. В нём свет не
дополнял, но отваливался ото тьмы; порядок не перемежался - но отграничился
от хаоса, а добро противопоставилось злу. Появилась возможность делить
гармонию на фрагменты. Целостность стала чем-то отвлечённым. А движение
и развитие затесалось между противоположностями.
И твари, явившиеся в мире этом, стали умирать и
возрождаться, вновь умирать и вновь возрождаться. В моменты смерти, отрываясь
от знакомого мира, они перепутывают или теряют едва найденные гармоники
- и новый поиск становится бессмысленным. Они живут уже просто для удовольствия
в себе, отнимая это у окружающего. Стараются получить всё от своей формы
сразу, поскольку в следующий раз всё забудут. И очень быстро всё взбунтовалось.
А я, переживая своё создание, провалился в него.
Я лишь смешался с этими противоречиями, ведь ожидал, что создание моё породит
нечто новое, а оно только перемешивается. Красота растерялась - только
это и оказалось новым, я даже не подозревал о подобном. Такой вот я незадачливый
демиург.
На этой же планете, в этот самый Ларец я успел спрятать
непрерывные нити жизней всех тварей. И сюда попадают те, кто в душе своей
вдруг открыл способность сохранять единство с окружающим, понимать своё
место, не терять и не захватывать. Даже Светозарный Карлик, который один
из первых стал противоречить и даже сделал себе Ключ от Ларца, часто возвращается
сюда, уставая хватать и делить."
Олла встрепенулась и перебила:
"Светозарный Карлик? Я встречала его в лесу. Но
ведь у него ключ деревянный."
Старец пристально посмотрел на Оллу.
"Нет смысла в материале, коль дверцу открывает дух...
Знай: если он получит хоть что-то не по доброй воле - как и ты, как и любой
другой - то тут же родится на какой-нибудь дал лёкой планете, и вновь ждать
долго придётся.
Попавшие сюда стараются сломить крышу Ларца, но
духа их не хватает, чтобы восстановить Гармонию. Потому-то твари злыестараются
скрываться, не искушаться и не провоцировать, чтоб не нарушить достигнутое
внутри себя равновесие. Мир этот жалок, неустойчив; я же несчастен тем,
что лишён в нём возможности использовать свои способности."
Тут Старец поднялся, глядя поверх головы зачарованной
Оллы, и медленно побрёл вглубь пещеры, оставляя за собой голубоватый мерцающий
свет.
Олла выбралась из пещеры и ей показалось, что цвет
дня изменился. Она уже в надежде смотрела на изнемогающих от непрерывной
работы людей, зверей и чудовищ, а те, взглянув на Оллу, вдруг преполнялись
новой силой. Но не понимали, почему.
Через много часов поиска Олла увидела Серебристого
Дракона, и тот догадался, что Олла узнала что-то важное. Она не стала объяснять
ему всё, просто попросила отнести в тот лес, из которого вышла к выжженому
полю. И, тяжело поднявшись, он понёс её через горы. Семь дней продолжалось
их путешествие, когда они летели уже там, где опускалась ночь. Вот показалась
чёрная пустыня и зелёная кромка на горизонте, за которой скрывалось светило.
Почти стемнело, когда они нашли дерево с толстой корой и развилкой. Дракон
полетел обратно, к полю. - "Я хочу, чтобы мне приснился родной Ад," - признался
он Олле.
Когда её разбудило утро, Олла вспомнила путешествие
к Вершине как дурной сон. Далёкий, давний. Она долго глазела на голубое
небо, изрезанное подрагивающей листвой, потом спрыгнула на землю. У ствола
стояла большая корзинка с домашними пирожками и зелёной бутылкой. Вода
в ней была сладкая с запахом ягоды, и не хотелось никуда идти. Олла сидела
под деревом; ей казалось, что она боится повторить пройденный путь.
Тут в стороне зашуршали кусты, и к ней из лесу вышел
Карлик с огромным носом, окружённый странным красноватым светом. Светозарный
Карлик улыбался ей, но во взгляде его гуляла настороженность.
"Что ж ты вернулась? - буркнул он себе под нос.
- А змеюка крылатая испугалась меня, назад к себе полетела, а? Меня испугалась,
да?"
Олла отставила корзинку в сторону, поднялась и сделала
несколько шагов навстречу.
"Спасибо за угощение, - сказала она. - Я впрямь
решила вернуться, потому что хочу помочь, чтобы все освободились."
Карлик ехидно зацокал языком и покрутил Олле под
носом толстой пятернёй.
"Хе-хе, какие мы хорошие! И меня, значит, освободить
хочешь? Со Старцем, наверное, болтала? Болтала, вижу. Кто ж тебе ещё про
Ключ сказать мог?"
"Не только он про Ключ знает. Да я и сама видела
его у тебя. Скажи, почему ты сам не воспользуешься Ключом?"
"Почему-почему..." - передразнил Светозарный Карлик
вдруг хмуро. Тут он замолчал, а потом хлопнул себя по груди со всей силы
и прямо на глазах стал расти. В несколько секунд он стал уже выше Оллы;
потом она стала ему по пояс - наконец, огромные жёлтые башмаки заполонили
всю поляну, а гигантское дерево заскрипело, когда Светозарный поставил
на его развилку колено. Гулкий громогласный голос его оставался таким же
ворчливым.
"Видишь? Даже здесь - что хочу, то и могу сделать.
На этой планете живу, хоть дураки Сатаной кличут. А что после этого освобождения
будет, ты знаешь?"
Светозарный тут резко уменьшился и наклонился, чтобы
видеть лицо Оллы. Та покачала головой.
"Не знаю. Но хуже ведь быть не может..."
"То-то! Никто не знает! Мало ли какие Старик басни
рассказывает. От хорошей жизни да без скуки он не затеял бы эту баланду.
А? Не затеял бы ведь?"
Он ещё приуменьшился, потоптался, щёлкнул пальцами
- в руке появилась кружка пенистого пива, которое он отхлебнул. А из кармана
вытащил и протянул Олле огромного красного леденцового петуха.
"Ешь, детка. Размерчик не рассчитал, прости. И с
чего вы взяли, что если достанешь эти нитки жизней, то сразу во всём разберёшься?
Сам-то Старик не дурак, наверное, а в Ларец лезть не хочет. Что-то будет,
когда вся эта братия на горке станет святой, да расселится по своим планетам?
Вот и я не хочу. Так только, Ключиком дразню."
"Но другие-то страдают. Они хотят вернуться и принести
туда гармонию и счастье. Как в том мире, который потерял этот бедный человек,
сделавшийся Богом..."
"Ты, девушка, не путай! - замахал Карлик толстым
пальцем, делаясь уже ниже Оллы. - Бог совсем в другом месте - и другие
дела у него. Я потому первый и возмутился, что тот субъект решил нам счастье
на свой лад устроить! Старикашка совершенно непричём.
Олла была поражена. Она даже не обратила внимания,
что до этого разговора и не подозревала о существовании Бога.
"Старец непричём? Но... разве не он мир творил?"
"Запутали вас тут всех, - въедливо прогнусавил Карлик
и кинул кружку с пивом в кусты, где та полыхнула синим пламенем. - Боженька
- Творец наш - есть то Нечто, что приключилось, когда Старец сфокусировал
свою идею. Главный герой его романа, так сказать. Ну, похожи они в чём-то
- это уже моё наблюдение. И Господь-то всё изнутри вертит-крутит, уж мне
это как никому другому известно. А Старикан... бедолага, сам в своей Вселенной
изгнанник - да так уж смастерил. Всё бы сделать мог, а что - сам не понимает."
И Карлик недвусмысленно покрутил пальцем у виска.
Олла словно обиделась и за Старца, и за Господа
Бога, даже губы надула. Светозарный заметил это и, кокетливо насвистывая,
стал прогуливаться по поляне, поглядывая то на примятую его гигантскими
башмаками траву, то в небо. У Оллы ничего сообразить не получалось. Наконец
она произнесла:
"Это всё сложно для меня. Но ведь так, как сейчас
- это же плохо..."
"Плохо? - изумлённо скривился Карлик. - Тебя не
устраивает это? Это? - он обвёл рукой кругом . - Эти прелестные зелёные
деревья, это голубое небо с облачками, лужайки и поля, город, в котором
ты жила? Не нравится?"
Олла вспомнила ужасную грозу...
"Нет! И не хочу я объяснять, почему так, не придирайся,
ты и сам знаешь. Всё это не то. Нужно раскрыть Ларец."
"Что ж, раскрывай," - Карлик снова поднял глаза
к небу.
"Знаешь... я... согласна."
"Чего?" - не понял вроде Светозарный.
"Согласна дать всё, что у меня есть, - уже твёрже
сказала она. - Даже себя. Сосем-совсем честно."
И она посмотрела в глаза Светозарному Карлику.
Тот отвёл взгляд и стал ещё меньше. Он пробежал
взад-вперёд по поляне; вообще, вёл себя странно, даже встал на четвереньки
- и Олле на мгновение почудилось, что у него оскаленная волчья пасть. Потом
он медленно обошёл Оллу, как в первый раз - красные огоньки заиграли в
его глазах - и он рассмеялся. Ужасающий адский хохот переливами нёсся над
лесом к невидимому горизонту, и там резко обрывался, и свет потускнел.
Но Олла спокойно ждала, пока всё это закончится.
Карлик закашлялся, вынул из-за пазухи фляжку, сделал
глоток (запахло почему-то керосином) и бросил фляжку в кусты, где тут же
сверкнула синяя вспышка.
"Что ж, будь по-твоему, девушка. Дам я тебе Ключ.
На, бери."
И он поспешно выхватил Ключ из-за спины и сунул
в руки Олле - деревянный Ключ, оказавшийся неожиданно тяжёлым, словно чугунным.
"И наплевал я на твоего Старца, и на людишек, и
на тварей. Посмотри-посмотрим. Да и тебя я не возьму."
"Почему?"
"Не возьму, не хочу. Вернее, нет. Как-нибудь потом
могу взять, когда захочу, да и время подойдёт. Тебе ж всё равно? Посмотрим,
посмотрим. Увидим, что выйдет с вашими нитками. Иди - открывай. Старичку
приветик мой с бантиком. А ты меня жди. На Земле на своей."
И говоря последние слова уже не оборачиваясь, Светозарный
Карлик скрылся в густой зелёной стене леса.
Олла подержала Ключ, потом осторожно положила его
в свой чемоданчик и направилась к выжженому полю. На краю его её ждал Серебристый
Дракон.
Дракон не удивился, что Олла взяла Ключ, но боялся,
что Карлик задержит её. Они чуть пролетели над полем, опустились на золу,
поверхность качнулась, чёрными брызгами омыв ноги их. Потом каждый вспомнил
родную планету.
Пирамидальные скалы и полускрытая туманами Вершина
трагически поразили Оллу, как и в первый раз.
Она шла, неся тяжёлый чемоданчик с Ключом, и откуда-то
все узнавали об этом содержимом чемоданчика - волна изумления и радости
катилась кругом. Люди, невероятные создания и даже умные насекомые, тащившие
песчинки на Вершину, останавливались и безмолвно восхищались подвигом Оллы.
Она несла Ключ в пещеру - и все медленно собирались, двигались следом за
ней, готовясь к той минуте, когда они получат доступ к Нитям Жизней. Толпы,
вошедшие в пещеру следом за Оллой, совсем загородили свет, и лишь светящиеся
глаза некоторых чудовищ указывали ей дорогу.
Олла ожидала, что её встретит Старец, но нигде не
видела его. Лишь иногда мерцало то здесь, то там под сводами - но он ли
был это? И когда Олла подошла к самой запертой двери, то была огорчена,
что Демиург не захотел присутствовать при столь великом событии.
Серебристый Дракон помог ей отодвинуть заслонку
над замочной скважиной. Олла открыла чемоданчик, вынула из него Ключ и
аккуратно стала вставлять его в отверстие. С некоторым удивлением она заметила,
что Ключ совсем немного, но меньше отверстия - он вошёл слишком свободно
и даже чуть покачивался. Осторожно она стала поворачивать Ключ, внутри
что-то зашуршало, заскрипело, Ключ медленно двинулся, потом застопорился,
потом ещё немного повернулся - тут что-то щёлкнуло, и он застрял.
Лоб Оллы взмок от пота; окружающие - оборванные,
в пыли - столпились совсем близко. Ключ не хотел поворачиваться дальше.
Когда Олла пыталась повернуть его назад, он покачивался в пазу, но не сдвигался.
"Наверное, механизм совсем старый," - услышала она
голос Грэма, тот выбрался из толпы Олле на помощь.
"Я думаю, надо стараться осторожнее открывать..."
- эта неуверенно произнесённая фраза принадлежала Дракону.
Кроме Оллы, все боялись дотронуться до Ключа. Она
совсем медленно и осторожно двигала его опять. Ключ немного и плавно повернулся
- но тут раздался еле слышный хруст - и в ужасе Олла вынула из замочной
скважины длинный деревянный черенок, обломленный на конце.
Стон страдания пронёсся по толпе. Тихо и неумолимо
из глаз Оллы полились слёзы. Никто не мог ничего сказать. Грэм заглянул
в скважину замка - но остатки Ключа там были даже не видны, мороженщик
только развёл руками. Кто-то ещё не сдержался и всхлипнул - и так и не
сказав ни слова, люди и твари пошли прочь из пещеры. Прочь, чтобы вновь
тащить камни на Вершину.
Серебристый Дракон и Грэм сидели подле Оллы и даже
не пытались её успокоить. Она перестала плакать и только смотрела в темноту.
Тут в стороне, в проходах замерцало свечение. Голубоватое.
- "Старец," - шепнула Олла. Шмыгнула носом и встала. Грэми Дракон не поднялись
- они ничего не видели.
Старец шёл словно мимо. лицо его было спокойно,
будто бы даже довольно, и волосы, лучащиеся светом, придавали торжественность
осанке. Остановившись поодаль, он повернул голову к Олле и вопросительно
кивнул.
"Ключ сломался..." - сказала она печально.
"Хм. Вот видишь," - Старец, казалось, был удовлетворён
этим.
"Так что же делать нам?"
"Что хотите, - в зеленоватых глазах Старца мелькнуло
озорство. - Ты убедилась: немногого стоили старания Светозарного. Впрочем,
большего ему не было суждено. Выбор ваш."
"Наш? Но кто теперь сможет нам помочь?" - не унималась
Олла, словно не хотела понимать сказанное.
"Не вижу, в чём вам помогать, - жёстко ответил Старец.
- Своими руками тащИте булыжники" Вот вас тут трое, многое б уже успели.
Что же ты, девочка, лишь на чудеса полагаться приучилась?"
"Какой вы злой! - возмущённо воскликнула Олла. -
Я не знала, что вы таким можете быть. Видно, тот мир ваш был не такой совершенный..."
"Где же ты совершенство видала?"
"Я не видала. Но я знаю: хоть и трудно, но можно идти и к красоте,
и к совершенству. Мне было б не жалко страдать на родной моей планете,
когда бы я знала, что Вселенная становится лучше и лучше, что мы... вернёмся
к гармонии."
"Все говорят так... А если б не знала? И чем не
ладны тебе страдания здесь? Тем, что не Бог сей Вселенной устроил их вам?
Эта идея с Ларцом - просто милая шутка. Здесь хоть зачатки гармонии, хоть
и некому её оживить."
"А у нас на Земле - живое!" - Олла вдруг вспомнила что-то, и слёзы
брызнули из глаз её.
"Вы даже не знаете, как красиво у нас. И не понимаете.
Вы всё сидите на этой сонной планете. Вы, наверное, и свой совершенный
мир забыли. Вы потеряли право менять - и забросили возможность меняться.
Может, у нас вы бы нашли новое что-нибудь. Ведь Земля такая красивая."
"Люди всё испортят," - процедил Старец сквозь зубы.
"Не всё! Меня даже ваш Карлик пирожками угостил
и леденцом - это он у нас научился, понял, я знаю, вот спросите! Ведь потому
многие люди не соблюдают правил Бога, что хотят ещё лучше сделать - да
правды не знают."
"Да знает ли её Господь?" - усмехнулся Старец.
"Не может быть такого! А если никто даже кроме вас
и не знает - мы что же, к созиданию не прийдём? Всё сидите тут, сундук
стережёте, прям как Кащей."
Старец громко рассмеялся. Дракон и Грэм подняли
головы - они услышали этот на удивление молодой, свежий смех. Когда своды
потеряли его, Демиург подошёл ближе и спросил:"
"Что же иное ты можешь предложить, девочка?"
Олла огляделась. У дверцы Ларца, возле сидящих,
валялся обломок Ключа и раскрытый чемоданчик. Что-то в чемоданчике привлекло
её внимание. Она подошла и вынула из него румяное яблоко, которое положила
туда мама. Это было так давно... Олла приблизилась к Старцу и протянула
ему плод.
"Приходите к нам на Землю," - сказала она, и тут
поняла, что говорит на одном из языков Земли.
"Прийдите, я приглашаю вас в гости. Посмотрите,
какие есть разные люди, как они живут. Только они не знают ещё, чего хотят.
Посмотрите на их лица, узнайте их мечты. Прочитайте наши книги. Побывайте
в наших Храмах. Пусть они ещё не знают Единства - но они стремятся найти
гармонию. И не просто на словах, хотя слов и языков у нас много. Мне кажется,
они бы очень хотели понять вас. Ведь они, хоть и редко, тоже способны признавать
ошибки. Земля такая противоречивая - но она и такая красивая..."
"Не поминай о противоборствах..."
"Там такие леса, такие цветы, такие горы, такое
море..." Тут Олла осознала, что она и Старец уже вовсе не в пещере - что
они парят над Вершиной, загромаждённой камнями - и Вершина пуста, нет ни
людей, ни других существ. И что в глазах Старца ещё стоит сомнение и вопрос.
"Ну прийдите же к нам! Я приглашаю вас на Землю."
Старец протянул руку и взял у Оллы яблоко. Мир кружился,
и туман и звёзды медленно образовывали спираль вокруг Вершины. Старец выпустил
яблоко из руки, оно покатилось по воздуху и коснулось самого верхнего камня.
В пространстве растёкся далёкий гул. Сквозь исчезающие руины проникло живое
мерцание и в воздухе заклубились миллиарды тончайших разноцветных нитей,
рассеиваясь, распутываясь.
Поверьте мне, сидеть в конторе в довольно жаркий
летний день - занятие довольно сложное. Может показаться, что сидишь вот
так один во всём городе, и про тебя просто забыли, и никому это твоё исполнительное
нахождение на месте вовсе не нужно. Наваждение. Потому и когда жара спадает
- выключается эта странным образом задуманная печка - в минуты, отпускающие
на свободу, можно избрать направлением для усталого рассудка быстро остывающие
набережные.
Так и она - после сумрака между бумаг и треска телефонов
- быстро постукивая каблучками, знакомыми переулками шла к морю. Житель
приморского города уже

не замечает многих особенностей, которые другой
бы перечислил естественно: солоноватый ветерок, далёкие крики чаек, запах
сжигаемых солнцем водорослей на песке, натужный скрип галер... Нет, последнее
- забыто, очевидно. Да и те же чайки терялись, заглушались фырчаньем и
шуршанием автомашин.
Она же всё-таки думала о чайках. Быстрые шаги притупляли
медленными волнами подступавшее чувство тревоги. "Это всё сон," - думала
она, снова сворачивая за угол. Это сон какой-то дурацкий. И оконные стёкла
мельком слепили. Какой сон? - в памяти не осталось. Многим свойственно
забывать сны. И забивать их более отчётливыми впечатлениями. Пусть не приходят
днём, даже если жарко.
Но сегодня к морю хотелось особенно. Особенно хотелось.
Выделить бахрому волн и тонкую плёнку воды, текущую над песком. Прохладную
сквозящую плёнку. Воды непременно солёной - соль эта должна оставаться
пыльцой на высохших пальцах. Вот ещё два переулка, и уже тянет свежестью.
Какое только наваждение не пригрезится днём, когда уронишь тяжёлую голову
волосами на стол, когда воздух влажный и душный.
Вот она, гладь. Крайние дома не устают смотреть
на нескончаемо ровную поверхность, порой столь кипучую. На прямой горизонт.
Слышать шум. Многочисленные блики - сквозь витражи бы были многоцветны...
Почти успокаивают. Маленькими лучиками у горизонты чайки, те, чьи крики
меж машинами... Скоро она поспешит домой.
Достаточно вздохнуть. А ЭТО ЧТО ЗА КРИКИ? Нет, почти тишина. Здесь
столпились, потому что происшествие. Что-то случилось, уже довольно давно,
потому и люди. И машина медицинской помощи, поскольку пострадавший есть.
Через людей не видно, что там. Кто-то утонул? - Нет, вроде, говорят.
Поверхность моря спокойна, приходится оторвать взгляд.
Она подошла поближе. Человека нашли у берега в воде. Одет. Бывает, стоишь
на мостках или у кромки на обрыве, да голова закружится - там и упасть
можно. Душный день, к тому же. Такая жара. А если слабое сердце... Оно
может быть доброе, но физически слабое, вы правы. Почему ж о доброте говорят
про сердце? Но нашли вовремя. Он совсем не захлебнулся, не беспокойтесь.
И ещё одет не по сезону; видимо, нездешний.
Потянуло пойти к самой машине. Она почти не волновалась.
Если и да, то ещё после сна. Его на носилках несли, лицо открыто. Почему-то
будто ночью несли. Белая простынь открылась немного, под ней виден край
фиолетовой куртки. Тень. Смутный образ внутри, не перед глазами. Она подошла
к самым носилкам. Вдруг лежащий открыл рот и отчётливо вздохнул. Перед
машиной люди замешкались, кто-то толкнул. Клекот чаек; волны качают. Носилки
качнулась, потому что толкнули их. Подтолкнули - и он приоткрыл чуть глаза.
Вздохи волнения; врач подошёл, человек в белом халате. Спросил лежащего.
Чистый зеленоватый взгляд, а потом сразу улыбка, усталая. Она вдруг в смятенье
рывком подошла - да, взгляд скользнул по ней, остановился, узнал.
- Олла... - шепнули слабые губы. - Я принял твоё
приглашение.
ПИСЬМО ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
Меня загнали в угол. Несколько столетий погони -
и, годом раньше, годом позже, это должно было случиться. Теперь сижу в
этой маленькой пустой комнатке и оправдываюсь.
Полночь, полная хлипкой городской черноты - но полная.
Расстояния загружены многоэтажками, но всего в трёх измерениях. Того, что
в остальных измерениях, никто не видит - но и там всё загажено многоэтажками.
Вдоль и поперёк. Лишь ещё измерения на три выше можно вздохнуть. Там получится
больше семи. Там появляется воздух и свет. Не тот свет, о котором рассуждает
физика - но свет.
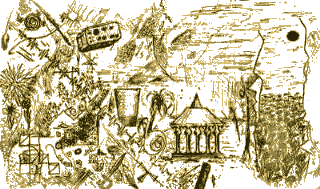
В комнате гибнут ночные насекомые - простые лёгкие
мотыльки и какие-то зелёные, блестящие и мохнатые, и ещё какие-то совсем
крохотные. Летят к лампе, следяще зависшей над столом, ударяются, падают
и долго мучатся в агонии. Потом те, которые отойдут - опять к лампе. Не
могут понять, что это издевательство.
Чувствую себя как затравленный Серый Волк, пришедший
к Бабушке с покаянием, карму свою признать, на жизнь горькую пожаловаться.
Да посоветоваться, как с этой Красной Шапочкой быть, а бабуся (неспроста
у неё и наследница такая) так бедного Волка уделала, довела, что тот, то
ли ополоумев, то ли от досады, и съел её, а потом пошёл с отчаяния живодёрам
сдался.
А днём, когда обедал, прилетела жирная оса, ослеплённая
полуденным солнцем, садилась на мои руки, ползала по ним, не знаю уж чего
ища там, не давала есть. Я на неё наорал, и она улетела. С осами-то ясно
всё: я знаю, что они делают, и не вмешиваюсь. Потому они не кусаются, и
бояться нечего. Но вот что делать с этими - которые по столу обожжённые
ползают?
Если рассказывать всю историю целиком - она слишком
невразумительная и нудная. Она просто клонит в сон и во сне продолжается,
если воспринимать её во всех подробностях. Лучше же посмотреть со стороны
- хотя и так она представляется оплывшей, без стержня, словно свеча, если
сквозняки со всех сторон. Просто малоинтересная, никого не касающаяся история,
если бы не существовала опасность, что она приключится с кем-нибудь ещё.
Главное в ней даже не в людях, вернее, не во мне.
Самому с собой разобраться можно. И героем обычно становится человек (имею
в виду - героем рассказа). А здесь герой - некая идея, концепция, философия-метафизика,
бросающая кругом себя тени и призраком разыскивающая жертвы. Упырь на венах
новорожденного разума.
Возможно, рассудок уже помрачён, и я сгущаю краски.
И если явления природы и времена года сменяются, чередуются в нашем времени
- избрав иное направление, видишь: все зимы - одна большая глыба, пронзённая
иголками мёртвых звёзд, гвоздями мироздания. Осенний дождичек, дымящий
ассоциациями в некой голове - пласт воды, в котором разворачиваются снулые
рыбы зеленоватых и оранжевых молний. А сами вы, извините, булыжники у обочины
просёлочного тракта Предопределённости, и каждый сковал одну-единственную
мысль.
Так вот, героиня, теория эта, внешне проста, как
деревенская женщина, пять-шесть веков как присевшая на заваленок, в бесцветном
платке, уставивши в поле голубые копейки глаз. Мир есть непрерывное Абсолютное,
невероятный пирог в бесконечном числе направлений, вмещающий в себя цукаты
и изюминки, и крем - вещи самые невероятные, даже такие, которые не сможет
представить и тот, кого вам никогда не представить. Но лишь отрезаешь кусочек
этой бесконечности, отделяешь три-четыре наугад взятые измерения - возникает
форма, с длиной и шириной, пористая, источающая аромат. И бесконечности
мало! Крошка или изюмина ещё пучатся дрожжами и винными соками - и стремятся
разрастись до Абсолютного. Они хотят расширить свою оболочку, именно оболочку,
они хотят стать пирогом - или проглотить его, кто уж тут знает. Не суть,
что сами выхвачены были, отделены в этом немногом числе измерений. Баба
властно подымется с заваленка, напружинив стан, и плавным голосом произнесёт...
Во всей череде жизней мне не набрать такого опыта.
Воспользуюсь тут метким словом: теория эта объясняет
ВСЁ. Она и есть скатерть-самобранка, на которой (в которую, сквозь которой?)
образуется пирог Абсолютного. Она окутывает его, и мы способны воображать
невидимое. Познакомься с этой дамой - и ничто не нужно в жизни боле; что
поставишь супротив ответа на любой вопрос? Да то уж и не знание, не информация,
которой загружают-перегружают (с места на место) глаза, уши, руки окружающих
всех; что с того, что окружили, круг - явление плоское. И не чувство то,
и не щупаешь, не поедаешь, но перевариваешься, переплываешь. Принимаешь,
что жизни и не жили.
Сказал Георгий Иванович, что в каждом человеке десятки,
если не более, "я", которые сменяются у амбразур зрачков, прыгают друг
меж другом и погоняют бренное тело. И если так - какое из тех "я" перевоплощается,
какому должно являться на наш Страшный Суд?
Из тех измерений всё глаже и проще. Скопища электронов
и протонов - как незабудки в поле, есть след единственного кусочка. Их
аромат един. В своём времени частица живёт и трудится и познаёт вечно;
в безвременье - жёлтым песочком помнит следы наших ног на морском берегу.
Она стремится возрасти и стать Единым, налагая свой след-творение на частицы
помельче. Не всегда оглядывается на пройденные ступеньки. Дрожжи пышут,
соки полнят и расцветают вновь и вновь - и сдвигают, правят планку скорости
света. В скорости незначимо непостоянство, а свет - это наши возможности,
дары.
Суетящиеся "я" в черепной шкатулке любят свет и
мечтают сверкнуть оправой друг перед другом. Не подозреваешь, что это лишь
игра с самим собой. Свет проходит мимо. Кульбиты ассоциаций мерцают гранями
лишь одного состояния, взятого на одну жизнь. Благоговения или угнетённости
- смотря с какой стороны войдёшь.
И вот "я" обнаружили друг друга, узнали, спелись,
соединились. Душа теперь ценит единство и удручается единственностью, роясь
в истории и бегая по черепушке планетки, что несётся по плотно стиснутой
спирали и тоже воображает, что гуляет сама по себе. Но добраться до планеты
охотников много - а вот что делать этой изюмине, целеустремлённому протону,
со страхом мечтающему наткнуться на такого же? Вонзился, сменил траекторию,
обрёл новую жизнь, новое направление, на лету огляделся, меж делом просматривая
сны-телеграммы летящих в других временах, вновь вонзился, отдал импульс
и обрёл новую плоть. Создатель на то смотрит и изучает материю, вспоминая
своё давно пройденное (если так умён, что создал).
Так пронзишь миры - и вот натыкаешься на гражданку
на завалинке. Пальмы ли, берёзы белоствольные или розовые онмунты, простор
вылинявшего неба и подрагиванье мышц уставшего ветра - всё лишь узор вековечного
зеркала несусветной глыбины Абсолюта; модель почти детская, но всё уж не
болезнь высокоспециализированного дробления на части, когда каждое слово
держит свой неразменный комочек, претендующий на истину. Просто невозможно
забыть это обыкновенное, искренне участвующее во всём лицо - и она тебя
просит говорить, создавать и воплощаться. Отражаясь в этом узоре облачном
и поданной кружке синей от неба воды, в которой увидишь то ли себя, то
ли шутливого беса, то ли Ангела, снизошедшего в бессонный мир чьей-то мечты.
Рассказывали, как посланник Света Такого явился
за баранкой впопыхах вызванного такси. Бесстрастное ровное выражение его
чуть монголоидного лика с бледными отвисшими усиками и тонкими чувствительными
ноздрями. Кругом полутьма отчего-то. Всё свелось к внимающему гласу глаз,
мгновенно успокоивших и унесших от скуки броуновских забот. Это была та
вереница зеркал, что до смерти пугает забывшего безвременную ширь одиночества.
Он держал рулевой круг мягким движением линяло-жёлтых перчаток и не мог
ошибиться в выборе дороги. Рассказчик не сумел передать странных ребристых
слов их общения и лишь вновь и вновь описывал каждую нить старенькой куртки
посланца, взмахи коротких ресниц его и повороты головы. Стыдно сказать
- я молчал. Я понимал всё это, узнавал необходимую работу переселенца,
осваивающего Новый Свет, притихше внимая такой вот рассказ, с грустным
воспоминанием... о тысячах страниц психиатрических определителей и добротных
фантастических энциклопедий. И зовёшь Себя свыше помочь не рассыпаться
на мириад весёлых, юрких, пугливых "я" - и подаёшь себе влажную от волнения
руку, протекшую сквозь жёлтую перчатку; реку, не позволяющую сотворить
одно и то же дважды.
Символы заполнили моё повествование; но, думаю,
что это справедливо. Так и стараешься наделить всё смыслом - вместо того,
чтобы мыслить, осмыслять. Смысл - запечатлённая цель, новое качество времени.
Моя героиня обладает своим смыслом вне какого-либо течения, она в себе
родит перекрещивающиеся пучки времён. Она уважает крест как символ свершённости,
но разбивает решётку - предопределённость. Решётка сильна только изнутри
- ведь снаружи, при огромном ускорении, направления слипаются, и обнаруживаешь
сразу, что летишь в новом измерении. Здесь новый крест. И когда волокут
распинать на него, исторгаешь в отчаянии - "Зачем меня покинул?!" - вдруг
не веря в себя, забывая схватить ту соломинку лучика следующего, но ещё
не последнего пути.
Страшно забыть, что были направления перед этим.
Опасно потерять идею; материя живая и твердыня - только что свернувшиеся
в пространстве тысячелетия наших скитаний и прозрений, которые и обусловили
рождение в этом, сильно подлунном мире. Тут же дробишься на миллиарды бессловесных
исполнителей, обменявших тоску одиночества-единства на задний ход метрополитенной
толкотни.
И тогда слышишь про другой сон: что воевал с кем-то
в неких развалинах, стрелял, и всё по своим, сам в их числе. Смысл чисел
иной. У того, кто "второй" выходят все патроны - и ты, "первый", видишь
его-себя покончившим собой - премерзкая картина. Проходя мимо наполненной
жидкостью ванной с трупом, голым, в красно-чёрных разводах, думая - где
бы достать пищу, мясо... Кстати, всё средь недостроенных зданий...
Человек отращивает в себе человеческие качества,
соответствующие стандарту Космическому - такова точка зрения сельскохозяйственная.
Мичурин для людских задач. Непоколебимый вопрос: во что верить - в абстракцию
иль в существо двуногое?
Говоришь себе, что видишь кругом только образы,
а не предметы. На небо глядишь и приемлишь не физическое естество, а романтическое
марево. Облака барашками... всякие эмоции лазурного моря. Вполне реальный
предмет в движении стихии творит и изменяется, не оглядываясь на обозначения
и стиль поведения. Чтобы предсказать поступки беснующихся частиц, придумываются
школы и стили; в школах дрессируют правильно применять слова. Законо-мерности
запутаны в закона произволе.
И говорится, что видим мы мир! Вторично это. Когда-нибудь
вы поймёте сон, случившийся с одной моей знакомой, забывшей о Законе.
Дверь в комнату ударом распахнул нетрезвый автоматчик
- "Выходи, в горах порядок сменился! - тут приятель-рассказчик продвинулся
боком к окну и сиганул; этаж был пятый. Сознание моё честно выдавило мысли:
будет ли пропущена очередь в серый лик телевизора, случайного подарка этой
жизни - да каким болезненным может оказаться этот неожиданный уход; упасть
с высоты невредимым всё равно не виделось возможным. И в каждом новом воплощении
стремишься, предвосхищаешь ситуацию возобновления знакомства с этой меланхоличной
свидетельницей рождений и достижений, ждёшь от неё поддержки и получаешь...
умалчиваемое откровение бессилия. Потому что когда поймешь, что дальше
этих полей и облаков идти некуда, что всегда лишь явишься к ним, а наша
знакомая госпожа у порога есть и будет и тонкой девушкой, с которой тебя
чуть не силой познакомили на каком-то концерте, и сребровласой старухой,
позвавшей через забор своего дачного участка. И покажется порой стойким
старцем с верным, но недоверчивым посохом, не принявшим Земли Обетованной - остановиться всё равно нельзя; только тут можешь уловить, что и чувства
и идеи в сознании единства есть лишь способ соприкосновения с такими же
оболочками, не более. Внутренний же мир не просто устремлён в некую высь
- он даётся тем, что отдаёшь, покидаешь его. Частокол смертей не заслоняет
неведомое, но отрывает всех наших муравьишек от сердцу дорогих хвоинок
и комочков перегноя; тут матка взлетает - пока не сбросит крылья и не зародит
новый цикл.
А память? Цепляние форм за оболочки, и утрата их
с утратой формы. Когда прорастаешь из сущности в сущность, память не нужна
- всё просто ЕСМЬ, всегда.
Какое безобразие из слов обычно получается! - нет
ничего проще сказать, что весь смысл теперь представлен конкретикой так
хорошо знакомого Всеобщего. Вам не видать его? Весь смысл в том, чтобы
внимательно ткать эту скатерть, ставить стежок к стежку, точку к точке,
омывать случившиеся грани и пестовать ту, Кто Встретит.
Может ли она оставаться ничьей? - или это сам каждый-из-нас
подходит и одушевляет отвлечённую гармонию, такую пустую на первый взгляд
абстракцию - и готов принять приходящего.
Поразительное дело. Начал жалобами ставить воды
вселенские, дожди, смывающие и рисунок, и кожу - и вот уж утверждаю, славлю,
вроде как зову. А ведь меня действительно загнали в угол. Ведь те, кто
веруют, надеются на то, что после жизни. Не попадают, не дозволяют попасть
в трубы, несущие сквозь солнца и галактики, через поры Абсолютного; а в
прежний вид вернуться не дозволит... нет, не гордость и не страх. Дьявол
не захочет взять эту душу, поскольку е г о смысл в таком слиянии и Единении
- исчезнет.
Музыкальны, ритмичны горькие сомнения; мы с радостью
отдаём свою кровь, танцуем, питая противоположности, вызывая в себе несвойственное,
и не замечаем, что мы уже в ком-то другом, потерянном отсюда, и навсегда,
если говорить о времени этом. Наш гнозис - странен и несвоевремен, поскольку
больше привязан ко временам года и хватким инстинктам, с которыми забавно
соревноваться, даже если заведомо чувствуешь проигрыш. Ощущения - слабый
воздух над кожей дублёнки - хотят взять одним словом такое многообразие
истин: "идти" или "любить" - что лучше просить или приказывать молчанием.
Сам ли ты предопределил свою обитель? Мы гонемся за теми, кому снимся -
так когда завершится этот эпизод? Случится ли Пришествие вне конкурса?
Наступит ли прекрасный день Помпеи, в котором спустившаяся извне тень пригласит
исполнить уникальное значение, нотку каждой упавшей капли?
Она выльет остатки воды обратно в колодец времён
и насыпет крошки пирога воробьям и синицам. Большие крылья пролетающей
птицы рвут световую волну - мгновения этой тьмы прожилки и волоконца травы
переживут как трудную долю борьбы за справедливость, которую будут видеть
во снах, озарённую неведомым Солнцем. Поколения поэтов нарисуют узоры на
краях её сарафана и длинного полотенца; не попавшие в узоры будут мерцать
листьями, проглядывающими меж листьев колышащихся ветвей. Потом войдёшь
в широкие комнаты, где освежающе чисто и ясно, где есть всё, чтобы существовать
- это их сущность, ради которой и устроен этот угол, устроен природой и...
Лесом и ветром, и послушным дождём, очищающим стёкла. Его стук - не просьба,
а робкое предложение и способность осознать то, что делает жизненные сомнения
творящей, неисчерпаемой истиной. Только волшебное зеркало-телевизор старается
продырявить гармонию - но способно ли оно изобразить хоть что-то неизвестное?
Ранее, позднее ли, это должно было произойти; такая
медитация неизбежна, и я вижу, как в этот момент воплощаю всех, кто идёт
или когда-нибудь, даже в мирах иных когда-нибудь пойдёт по этому пути.
Такие интересные миры! Помню, что мы делаем не только свои переживания,
но обеспечиваем и защищаем судьбы всех тех, которых не могут представить
себе и те, кого никогда не представить.
P.S. (от лица первого) - Мысль заняться умственными
спекуляциями ему пришла в голову не в одно мгновение. Сложилась из кое-какого
случайного опыта. Ещё в школе мистифицировал друзей и недругов так, что
связаться больше не хотели. Потом семнадцатилетним убедился, что вот уж
годы, валяясь задравши ноги на диване и похрустывая яблоком, он придумывал
разнообразные метафизические концепции, обнаруженные вдруг в толстенных
философских томах. К удивлению, в книгах они оказались недоработанными.
Ему такие мысли казались естественными, обыденными, присущими всякому -
и тут негласное признание цивилизации, что это уникально! Быть может, он
решил, что умнее других. Неизвестно, может, он играл. Каждая проблема кристаллизовалась
его сознанием во всей перспективе - оставалось только искоса глядеть, как
людям не хватает то новых Советов, то Рынка и капиталов, то могучих рук
- а потому, что мечутся в разные стороны. Ему зачем такие страсти? И тщеславие
не беспокоило. Задачи не более, чтоб купить сыр в магазине; ВСЁ остальное
дано само собой. Что он использовал? Идеи Абсолюта и Единства более чем
материальны - но другие из бесконечного числа видят лишь три вида материи.
Другая форма - религия; роль лжепророка тоже не прельщала (лжепророк это
тот, кто претендует на правоту в словах). Подчёркивал, что он не столь
уж и принципиален. Но релятивистом не был. Моё тут мнение: что б он не
говорил, он быть способен лишь паразитом на Ангельском крыле. И очень не
хотел вначале, чтоб это было напечатано. Я думаю, то вновь игра; прошу
поэтому - пусть гонорары отсылают на моё имя. Не в пример вышеозначенному,
я не желаю помирать в любое время - и не только!
КОРОТКИЕ ЖИЗНИ
Первая фаза сна была очень хороша: медленная, с полным
погружением.
Если учесть некоторую духоту, способную создавать
навязчивые состояния, то этот процесс сна был просто без изъянов. Мне казалось
потом, что вот-вот должны были поплыть, ожить мои любимые чудесные картины.
Подсознание приготовилось ринуться в толпу замаячивших образов, когда грубые
взмахи стали рассеивать туман.
Трудно представить, что такое тщедушное насекомое
умеет разгонять могучие грёзы, обращать их энергию в агонию пламени свечи
на сквозняке. Гнусавый устойчивый звук, комариный этот восторг по поводу
найденной поживы сжал моё вмиг встревоженное существо и потянул за какую-то
жилу наружу. Полуинстинктивно я рванулся и махнул рукой из-под одеяла.
Мрак пульсировал в мозгу, сплавляя его с окружающим.
В качестве растерянного спасателя выскочила мысль: особенность моя в том,
что комары никогда не кусают меня в лицо. Ниже, уже в шею - пожалуйста.
Но если бы я боялся укусов! Мерно разбивая вёслами мутную жидкость, во
тьме наступали на меня страхи: сейчас я утеряю сон, не увижу неизвестных
тайных картин, дающих единение вдохновлённости и полноты повседневного
бытия. Ещё одним-двумя взмахами попробовал я отогнать этих хищников, после
чего стал рассеяно уговаривать свою рефлексию вновь ускользнуть в маленькую
воронку, воротца страны грёз. Это почти удалось.
Всё-таки мы покатились по незнакомой боковой тропинке.
С неожиданно пристрастным вниманием вдруг вспомнилось, что завтра произойдёт
встреча с Олле. Тут - во сне - я понял, что давно желал этой встречи, ждал
разговора. Я почти не знал Олле.
Завтра будет шанс раскрыться. Поверхностность отношений должна будет
чем-то смениться, преобразиться. Независимо от результатов, это будет нечто
новое, смена диспозиции - если не действий. Я не подозревал об этой возможности.
Во сне я видел наши жизни с огромной высоты: вот мы идём и поминутно сближаемся
с точкой встречи.
Подобные вещи не происходят случайно; и тем более,
дополнит эту картину давно планируемый визит к гадалке, Омме. Мне рассказали
о ней полгода назад; уже месяц как в записной книжке появился и телефон.
Так получилось, что это будет завтра. Именно поэтому необходимо хорошо
выспаться. Их имена до странности похожи - интересно? - и даже голоса чуть-чуть.
Голос гадалки кажется моложе, чем Олле.
Но сон не позволяет проводить сравнения, анализ,
отвлечённые экстраполяции и метафорические отступления. Сон играет на фоне
орнамента ощущений, но он логически узок, он трепещет и струится в логово
водопроводной трубы, скрытой внутри стены жизней; я не соглашусь с Борхесом,
что это одномоментный объём, разукрашенный затем чревовещательными потугами
рассказчика.
Скрипящая струна вновь вибрирует над ухом, я трясу
головой на подушке, интенсивно.
Подождал и вновь нажал кнопку звонка. Ситуация подступа
к незнакомой двери, настороженного предвкушения раскрытия перед тобой мира
нового человека - во мне всегда замедляет мгновение. Порой и наяву в такую
минуту кажется, что апробируешь некий объём фантазий, провокационно делаешь
замер свободного воображения. Далеко раздаются шаги, с пошлёпываньем тапок,
быстрый шаг. - "Вы нетерпеливы, - глас чрез открываемую дверь, а уж потом:
- Добрый день." - И я не ожидал, что Омме действительно так молода. Одним
словом образ гадалки связывается с крючковатым носом и жутковатыми пристальными
зрачками. Я же видел только свежесть, веющую от лица, и яркие зелёные глаза.
Она поразительно похожа на Олле, только брюнетка.
Это не случайно, даже если я сплю. Она смотрела на меня до помрачения знакомым
взглядом, словно в ожидании каких-то новостей. Я лихорадочно перебирал,
что важное случилось накануне - и должен я об этом рассказать? Я был смущён,
мне хотелось оправдываться, мол, новости-то сообщить должна она. Странность
нашей встречи разбивалась яркими, особенно яркими лучами солнца, заливающими
кухню и создающими ореол вокруг чёрных волос Омме. Она варила кофе - особый
кофе, наливая его в будто бы особенную чашку. Она собиралась гадать. Я
же старался не забыть, что сплю, возможно; что сейчас пророчества и сон
способны перепутаться - и от этих моих усилий менялось, казалось, не будущее,
а прошлое.
Она говорила со мной о простых, обыденных своих
делах, о которых я даже почему-то уже что-то знал, и я невнятно улыбался,
потягивая раскалённый кофе в ожидании приговора. Вкус кофе совершенно не
давал протрезвления; его вкус я забывал тут же, после каждого глотка. Она
допила первой и показала, как следует перевернуть чашку.
Осторожно я перевернул, на секунду содрогнувшись
от зудящего звука. Пока чашка стояла так, Омме заметила, что воздух слишком
накаляется, и задёрнула шторы. По кухне забродили призрачные тени. Цвета
сменились. Я помню белый квадрат стола и чашку, перевёрнутую в блюдце.
Стоит большого труда напрягаться, чтобы запомнить
отвлечённые мысли, излагаемые собеседником в вашем сне. Я осторожно трогал
каждую идею, передо мной плыло лицо Омме - и временами удавалось провалиться,
словно из сна в ещё один сон. Я чувствую, что говорю невнятно - это от
эмоций и растерянности; в момент мне было не до особых ощущений, и невозможно
остаться в спокойствии, передавая это состояние.
После общих слов об успехах в делах , Омме надолго
замялась, пока не изрекла ключевую фразу: "Если ваши душевные и сердечные
интересы не отвлекут роковым образом."
Далее её слова и настроение падали чёрными каплями.
Она сказала о девушке, для которой совсем близкая встреча со мной обернётся
катастрофой, сразу же. Из-за меня эта девушка не отправится в дорогу, уже
предрешённую. И всего два дня в городе перевернут цепь событий. - "Колёса...
гул и кровь... и даже, возможно..." - пробормотала Омме и сунула чашку
под струю воды, плотно зажужжавшую над моим помутнённым рассудком.
"Не общайтесь пока с этой девушкой. Кругом вас сейчас
расходятся волны беды. Отпустите события; ваш шанс в бездействии. А когда
она уедет - посмотрим, что дальше. Может, у линии появятся новые жизни."
- И Омме уже из-за двери проникновенно задержала на мне взгляд.
Ужасающий звук спорит с моим разумом, препятствуя
вере в пророчество. Не помню, что было вслед за хлопком двери; что-то ползло
под моим глазом...
Рывок головой - и снова острый звон, терзающий тонким
лезвием мозг сквозь бездонное отверстие уха. Мумифицируя фараонов, их орган
мышления вынимали через нос, он вовсе не нужен был для вечной жизни; вот
оно, движение у носа, аккуратное, на ощупь шелковистое острие... Я задёргался,
метнулся; сквозь зубы протиснулся сдавленный звук с нервным скрипом; я
отчаянно мотал головой, барахтался, разрывая сети сна; почти проснулся
и тёр тяжёлый липкий глаз. Потом протянул руку и включил слабый свет.
Я использовал давнюю привычку: если спросонок открыть
только один глаз, то потом ничего не стоит вернуться в прежний сон. Иногда
его течение даже не останавливается; можно двигаться, словно сомнамбула,
делать порой весьма сложные и целеустремлённые действия, параллельно не
отказываясь от жизни потусторонней, лишь удивлённо оценивающей твои возможности
здесь. Иногда даже обсуждаешь с кем-нибудь, как в этот момент в полудрёме
распахиваешь либо прикрываешь окно, идёшь за глотком воды, или - как сейчас
- ищешь на тускло освещённой стене своих мучителей.
Вот они, два злых господина.
Уникальные аппараты природы с шестью ножками и длинным
клинком индивидуального столового прибора, воспроизводятся они на топливе
из красных кровяных телец. Самки, озабоченные инстинктом, прихвостни Фрейда,
способные отравить ночь любому нормальному человеку и обесценивающие летние
периоды творчества. Я хотел видеть неповторимые киноленты своих снов -
они же ждут решения желудочных проблем. Я не люблю бить (убивать) животных,
но тут чувствительность моя упала. Ответный акт агрессии был краток. Медленно
приблизилась платформа ладони; затем стена содрогнулась, миниатюрный трупик
скользнул куда-то вниз. Друг убитого, звеня об отмщении, устремился в безнадежную
тьму.
Нет, я не настроен саркастически; я требую дальнейшего
процесса. Выключив лампу, помахав в темноте руками и мысленно проорав угрозы,
я уже мчался на встречу с Олле. Нет. Мы с ней только что вышли из кафе
и прогуливались, и отчего-то я путался в словах, я пытался осознать, почему
кругом такой сумбур. Тупое давление оборванной жизни стесняло мои мысли
и желания. "Кто следующий?" - назойливо вертелось в голове.
Благорасположение Олле ко мне было очевидно; и видимо,
я сам после визита к гадалке в смятении чувств проявлял излишнюю взволнованность.
Можно ли было интерпретировать это? Отчего-то менее всего хотелось показать
Олле, что мне просто приятно быть с ней; я пытался изобразить особую деловую
значимость наших отношений, перевести внимание на сторонние интересы. Во
сне не только гибко обращаешься с прошедшим, но часто твёрдо располагаешь
ближним будущим, словно предметом собственности. Я был уверен, я уже сделал
так, что у Олле возникнут ко мне самые лучшие чувства, но всё-таки она
уедет.
Она заговорила о том, что завтра должна отправиться
за город к подруге. "К подруге" - было произнесено так, точно на Олле возложили
непомерную обязанность ухаживать за капризным, заслуженным перед всем миром
старикашкой, - и она просит у меня повод, дабы отговориться и остаться.
Из-за моей смущённости (и скрытого страха пред неведомым) у нас набралась
уже масса завязок для последующих встреч, и мы друг другу поназначили визитов.
Я ткнулся в буфер адского холода расставания, пустоты ближайших дней; тепло
и маленькие, незначительные слова держали, тянули остаться, не развязываться...
"Кругом расходятся волны беды..." - услышал я мелодичный, убеждённый голос
Омме. Обязанность нарушить предрешённость.
"Как всё само собой выходит!" - с приторным весельем
слетело с уст моих. - "И я ближайшие три дня по горло занят. Вот как приедешь..."
Я не хотел в этот момент увидеть её сожалеющий взгляд
- на меня, как на дурачка. Я и не смотрел. Я наливался ощущением, что сделал
нечто важное. Шаг преодолел судьбу. Практический выбор. Потом я спокойно
смотрел на Олле.
Она мне показалась тут уж не такой загадочной -
просто приятной девушкой, с которой мы вдруг стянулись жизненными энергиями.
Иного смысла никакого. Было совсем легко; и с неё слетела пелена необычной
значительности - с чего я взял, что кто-то кого-то к чему-то обязывать
мог?
Вы же знаете, что во снах время зачастую сверхестественно
сжимается. Это показатель независимости сознания от мира. Особо интересно
досматривать видения по утрам: глянул на часы, перевернулся на чёрной сковороде,
разделяющей бытие, забылся, увидел события огромного дня, повернулся, вновь
глянул на часы - прошло пять-семь минут - опять закрыл глаза, прожил необъятный
кусок жизни, выскользнул, взглянул на циферблат - минуло ещё десять минут
- и так дальше. Так бесспорно выявляется несоответствие времён. То же происходит
ночью, хоть менее заметно; за несколько часов, пожалуй, улетают годы и
жизни.
Одиночество, утопленное в думах, во снах не попадается;
видимо, в том состоянии я и находился после Олле. Помню звонок Омме - утром?
- но прийти я должен был к ней вечером. Теперь, подойдя к дому, обратил
внимание: район и дом её знакомы по многим видениям, это известное мне
место, здесь происходили самые разные события, жили неведомые теперь знакомые;
вот я возвращаюсь вновь. Даже сквозь сочленения пространств сна и сна я
запомнил вопрос: кем, в каком качестве я ещё прийду сюда?
И вот он, противный звонок. Жало вонзилось мне в
ухо, по лицу словно скользнули пальцы, кинутые из соседней двери, сам я
дёрнул плечом, головой; мерзкий кошмар; я взмахнул рукой, почти ударив
в звонок снова. В вечность вытянута пауза, музыканты уснули - о, наконец,
дверь открывается.
Дальше всё время ворочался; мысли мои метались по
квартире Омме; она, в загадочном платье волшебницы, сквозь блёстки которого
почему-то я вижу джинсы и тёмно-синюю футболку; в синеве и чёрно-стеклянные
волосы, дымящиеся угли глаз, - она взмывает над моим существованием, она
вскрывает мои тайны, о коих я и сам не знал, она в восторге от моих талантов
(каких?) и расплетает моё будущее. Чьё будущее вы хотите? - Нет, я не слышал
этих слов. Но женщин действие не в знании, это природу возмущает; во сне
её сила естественна; она разделилась вдруг надвое - одна ушла мне за спину,
вторая залилась звенящим смехом. Я пожелал обернуться - она (которая?)
тут удержала меня за плечо и чем-то быстро уколола.
Мир, ещё секунду назад такой тёплый и пропитанный
спокойствием, к которому ты сам приложил руку - распахнулся голыми прямоугольниками
стен, замаскированных под тьму. Ткани, в которых я запутался, когда попытался
поймать исчезнувший жест, её касание меня, - они проступили молочной пеленой
материи и неудобно стиснули рассудок. Я думал, что должен был разделиться;
нет, я только протянул руку к выключателю, щёлкнул и, покачиваясь, чрез
жгучий свет стал оглядывать узоры обоев. Далёкой планетой определилась
ускользающая тень.
Тренированный комар. Для него свет тоже разбивает
надежду, несёт освобождение от возможностей. Для него свет - захват ирреальностью;
и смысл пропал. Он никуда не садился, он метался по углам и медленно брал
подъём туда, где мерещился потолок - вслед за моим ждущим фокусом зрения,
подталкиваемым боем пульса.
Но преступник, передавший мне удар, скрывался. Я
провалился в горечь об Омме - сколько я уже потерял? Кто кого должен разгадывать?
Пусть алчный зверь напьётся крови, но отдаст мою загадку, в которую сейчас
нырну, - нити потушенной лампы выжгли глаза, и в опустевшем поле зрения
молнией вспыхнул зелёный рисунок мандалы.
Однако, пантакль не дал пробежать до конца: он цепко
сдержал меня символом, пульсировал всё чаще, не отпускал от своего сотворённого
мутной случайностью смысла, словно некое слово, сказанное невпопад и навеки
запечатлённое, заслонило весь мир, отразив его вывернутым наизнанку. Мой
чертёж был утерян, врата оказались обманом; я хотел раздавить самого себя,
затоптать белесый мягкий мозг, что исполнил приказ скользнувшего взгляда;
мне нужно было покинуть срочно эту вселенную, эту комнату, душившую своими
непотребными и нудными забавами. Фосфорные нити в глазах вращались, издевались,
в поворотах рождали код и комментарии, и в этих формулах любой узнал бы
тотчас, что ещё не жил. Что его память - только ритм вращаемых планет.
Кто она? - Омме. Звук проливается меж двух смыканий
губ, не значащий ничто. Ом. - Мы. А я действительно забыл и пропустил пласт
времени, увидел уже целый сомн её порывов: невыразимое в каких-либо знаках
таинство блистало в свершившихся наших движениях; оно исключало жизнь,
смерть и мироздание. Так Абсолютное своей конкретностью зацементировало
Храм Тайны. Так ничтожное своим обманом покрывает ложь Высших Смыслов.
Я прозевал шанс ощущать всё это собственной шкурой, покуда стыл в борьбе
с шестилапыми призраками, - но я не лишился способности наблюдателя, затерянного
в весенней траве и утонувшего во вдохе, что поднимал над влажным горизонтом
ярко-оранжевый диск.
Я боролся с Омме. Бился за способность раздвигать
возможное и задавать из несоединимого новый день. Потом этот день казался
простым, схожим с другими. Мы с ней подымались на мостик - и я запальчиво
вещал, что он обернётся ладьёй, плывущей по неизвестному доселе течению.
Омме смеялась - глазами, руками и заговорами своими - и показывала, как
встретится плотина, по которой будешь переходить на всё тот же берег, разминать
всё такую же почву. Она смеялась; лодочки листочков налипали на серые камни,
сохли под солнцем, падали, проплывали и вновь налипали почти на то место.
Омме играла словами; и без слов стало ясно, что смена лишь в форме, всё
так же пронзающей Целое, всё там же растущей и суть претворяющей те же
законы... Беспросветная логика пленила меня летней ночью степного пространства,
а Омме смеётся и дальше, и снова ласкает огни возражений, собой воплощая
неполноту, исключение, нонсенс природного страха перед смертями. И я остаюсь
инструментом, перебегающим из ипостаси в ипостась.
Ночь пожрала идеи и нас; только под утро сомнения
утихли. Я запомнил в не скрытом за шторой окне полный глаз Луны, одурманенный
дымкой; светлело; облака голубыми прозрачными ступеньями звали за горизонт,
но я оступился и упал в сон, сон во сне, и там смотрел сон, там искал -
Омме?
Олле! - Я не хотел так всё смешивать. Но стоял перед
Омме - в венце чёрных волос её глаза ещё таили колкие магниты, но чего-то
я не понимал - не помнил? На коленях ли стоял? Забыл, где я. Спешил ли?
Уже был яркий день. Гадания, споры и сверх-вопросы - казались мелкой вибрацией
чувств, утомлённых собственной бездонностью. Новизна собственного качества
приятно меня удивила; стёкла окон были голубоваты, когда пропускали сюда
золотые лучи; я хочу взлетать от усталого прикосновения кожи к воздуху.
И мы шли. Глаза, излучая, рисовали орнамент тонких
и звонких красок летнего взаимопонимания, что растапливает необъятность
жизни в слабом шуме городского движения. Существует единственная реальность:
я обязан был идти так с ней вместе, единый в мыслях и желаниях. Я вовсе
не спал. Мы говорим о чём угодно, столь незначительном; наши мысли натыкались
друг на друга, отражали самое себя; голоса сплелись синхронно: в дуэте
слов хватало лишь на одного: это не просто телепатия; резонанс идентичных
микрочастиц. Мы весело смотрели, как одно сознание мгновенно проносилось
между нами. Тут вспомнили про Олле: пророчество: кровь. Мелькнула та минута:
я, вроде как глупец, и всё так просто; столь простая Олле - а ныне такая
обычная Омме; никакой магии, очень естественно, путаница, а не ворожба;
романтика - лишь сон. Надо жёстче; мир куда твёрже.
Со смеха стал я рассказывать Омме про сон: там комары
будто мешали уснуть и отдохнуть, зудели - как эти несущиеся автомобили;
потом я прибил одного. Оправдывался, что убил не я, природа сразу предусмотрела
это соотношение.
А может, здесь и объяснение пророчеству? - "Как?
- удивилась Омме. Так: колёса проносящейся машины - нудный комариный звук
над ухом. Кровь - кровь его убитого собрата. - "А в чём несчастье девушки?"
- смеётся громко Омме. - "Ну... это то, что я вдруг отказал общаться с
ней в ближайшие же дни." - Наш звонкий смех плескался меж домов.
Заговорив о сне, почувствовал я, что некое сомнение,
смешавшись с удивлением, всё гложет меня. И понял тут: я ни на чём не мог
остановить свой взгляд. Ничто не хотело придержать взгляд. Никому, ничему
не нужен был мой взгляд; он здесь словно чужой. Он проносился по стройной
фигурке Омме, по её совсем особому, многомерному в своём выражении лицу
(а то неожиданно плоскому, обычному - как на обложке второсортного журнала).
Мой взгляд мешался между облаками и стучал в окна домов, вертелся под ногами
у прохожих, трамбующих погожий день. Я не мог его сфокусировать, зафиксировать.
- Но надо ли ждать этого? (Сомнения.) Мелькание мозаики поверхностей -
разве не так должно быть? Омме уловила тревогу, вздувшую моё тело; глаза
мои устали и гул кругом нарастал; всюду кидались на меня попискивания и
заглушённые звонки. Нас обязывали делать следующий шаг, а я хотел провалиться
через асфальт - или бежать.
Я схватил Омме за руку - мы побежали. Мы убегали
от единственного решения. Я убегал от неё, ибо она могла снова стать мной,
я - Олле и кем-то ещё. Например, той огромной серебристой машиной, что
вспорхнула из-за угла по пустой улице и устремилась в единственном направлении,
уже подминая Омме.
Чудовищный гул раздался в моём ухе: огромное животное
молотило по стенкам своими крыльями, возбуждая страшный зуд в трубе всего
моего организма. Я увидел вдруг всё изнутри автомобиля: солнечную улицу,
бегущую пару, девушку, взмахнувшую синим потоком волос, затмивших стекло,
удар - и красную лаву, плеснувшую по витрине моего мира, под колёса, где-то
в этой трубе под рукой.
Гул в моём ухе прервался ударом из-под одеяла -
неплохая реакция; на мгновение увидел я стены тёмной мягкой пещеры, сквозь
которые корчилась жизнь.
Я пытался схватить их, её - всеми шестью руками;
бил обрывающимися перепонками крыльев и кричал, кричал, пока мир не взорвался
- хрустнул мой покров и полетел по бесконечному стеклу.